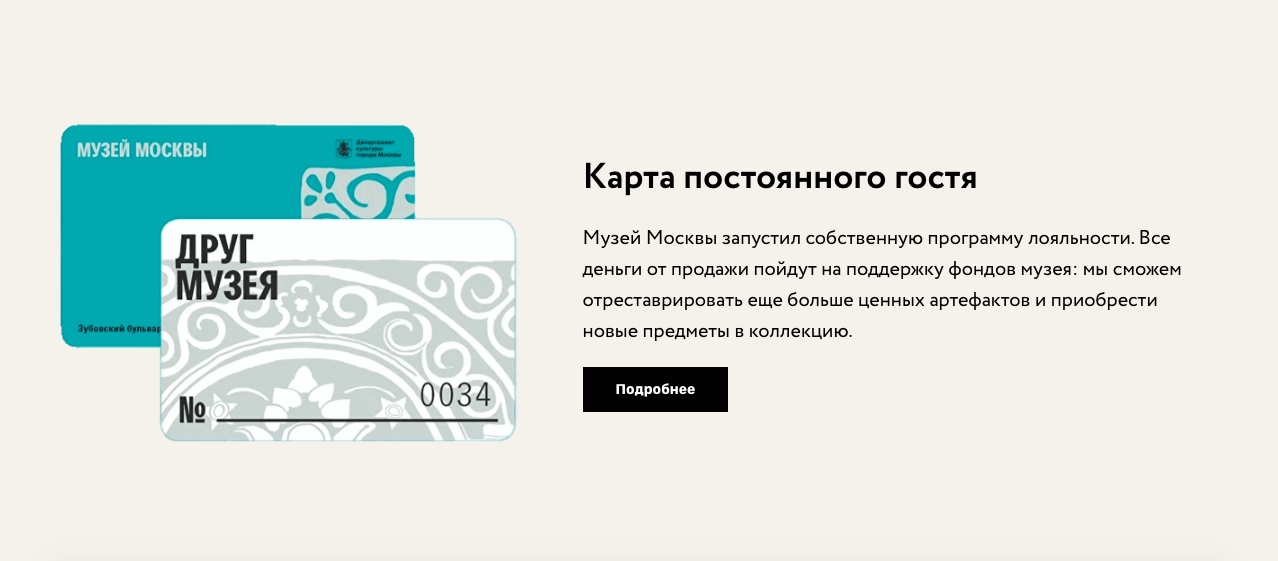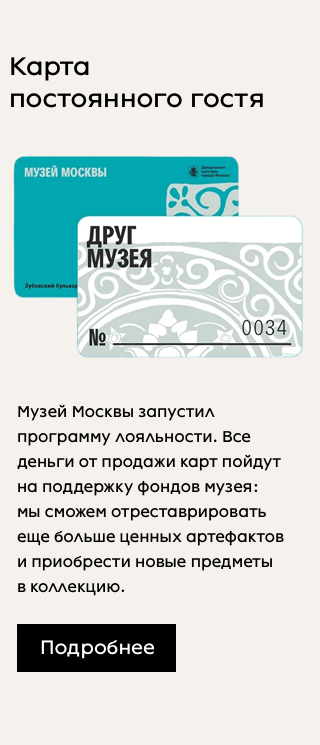«Мороз, Красный нос» — уникальный спектакль, возникший на стыке театра и новой академической музыки, современная опера с драматической актрисой и вокальным ансамблем. История женщины, преодолевающей боль потери и одиночество, претерпевающей радикальные эмоциональные сломы, оборачивается путешествием по целой жизни и по всему, удивительным образом расширяющемуся, пространству театра.
Поэма Некрасова в «Практике», очищенная от школьных штампов, — это сложносочиненная цепь драматических, визуальных, музыкальных образов, складывающихся во взрослую, чувственную историю о женской судьбе.
«Мороз, Красный нос» — участник лонг-листа российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» — 2021, участник программы Russian Case — 2021.
Место проведения: Музей Москвы, корпус 2
Продолжительность: 1 час 30 минут
Возраст: 16+
Автор: Николай Некрасов
Режиссер: Марина Брусникина
Композитор: Алексей Сюмак
Художник: Ксения Перетрухина
Художник по свету: Илья Пашнин
Музыкальный руководитель: Ольга Власова
В главной роли актриса Мастерской Дмитрия Брусникина: Яна Енжаева
Хореограф: Вера Приклонская
Художник по костюмам: Алексей Лобанов
Ансамбль «Практика»
Надежда Реутова, аккордеон
Анастасия Гвоздарева, скрипка
Анна Семиненко, виолончель
Прасковья Тынянских, ударные
Майя Журютина, ударные
Диана Галимова, флейта
Наталья Соколовская, фортепьяно
Михаил Ситалов, контрабас
Ансамбль «Практика», вокал
Александра Дёшина / Ольга Власова
Екатерина Палагина
Мария Ливандина / Елизавета Эбаноидзе
Евгения Данильченко
Джулия Аморетти
Ольга Талышева
Дети
София Скорик
Мара Левиева
Агата Квятковская
Оливия Квятковская
Арина Кот
Пресса
Ваш досуг
Удивительно, но до Алексея Сюмака никто из композиторов ни в XX веке, ни сейчас не осмелился взять поэму Некрасова и переложить ее на музыку (возможно, отталкивало «неактуальное» содержание текста?) Будучи таким образом первопроходцем, Сюмак написал чрезвычайно сложную для исполнения партитуру, которую невозможно воспроизвести с ходу или после двух-трех репетиций. Впрочем, с подобной изощренной нотописью могут справиться лишь настоящие профессионалы в области современной вокальной музыки как худрук ансамбля «Практика» Ольга Власова, сумевшая за столь короткий срок блестяще подготовить своих подопечных.
Сноб
Марина Брусникина намеренно уходит от традиционного толкования этой поэмы. В центре ее спектакля по-прежнему женщина, страждущая, одинокая и скорбящая. Но не дородная крестьянка, которая «коня на скаку остановит», не ее тяжелая трудовая участь, а просто женщина, потерявшая мужа и переживающая свое горе. Поэтому на первый план выходят не героизм и самопожертвование, а преодоление боли, столкновение со смертью лицом к лицу, попытка найти выход и в конечном итоге блуждание по лабиринтам собственного подсознания, ведущее к смерти.
Независимая газета
«Мороз, Красный нос» — спектакль-путешествие: начинается он буквально с вешалки – там же и заканчивается. В гардеробе — деревянный настил и стволы деревьев, чуть слышный звук тамтама постепенно разрастается и наполняет фойе, волна от ударов посоха по дощатому полу дрожью пробегает по телу. Маленькие девочки в голубом (его оттенки выбрал для всех участников спектакля художник по костюмам Алексей Лобанов) просят зрителей согреть руки – морозно в этом лесу. Музыкальное пространство звенит колокольчиками, наполняется чуть слышными наигрышами свистульки, протяжными стонами аккордеона, резко «гудит» контрабасом, создавая атмосферу морозного леса — и, возможно, оцепенения, застывших слез, по Шуберту.
rewizor.ru
Экспрессивно-надрывный декламационный монолог Дарьи «Я ль не молила Царицу Небесную» фантастически рифмовался с одним из самых ярких музыкальных фрагментов оперы — сценой полусна, полузабытья, плача Дарьи после смерти мужа. Это совершенно самостоятельный номер, фактический эквивалент того, что в классической опере называлось бы арией. Впрочем, его можно было бы назвать дуэтом Дарьи с аккордеоном, поскольку аккордеон в этой ситуации был не аккомпанирующим инструментом, а равноценным элементом, частью вокала.
CoolConnections
В те часы, когда театральные залы спят, ожидая вечерних посетителей, такой тканью скрыты все кресла; Перетрухина словно открывает зрительским взглядам деталь, забытую капельдинерами. Убирает четвёртую стену — и границу между синонимичным смерти сном и зыбкой театральной явью. Финал спектакля играется уже в малом зале, без кресел, вокруг ледяного кургана в ожерелье из «русской народной» посуды (я бы сочинил тут про связь художественного мира «Мороза» с Россией из спектаклей Николая Коляды, но знаю, что Ксения видела только один, не самый показательный спектакль Николая Владимировича) — точной, страшной и восхитительной материализации заколдованного сна героини.